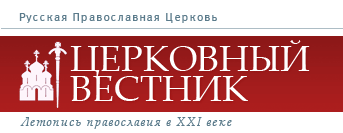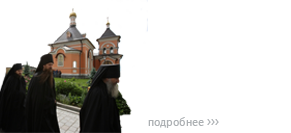Принято считать, что научное и религиозное описания мира принципиально противоречат друг другу. Действительно ли пропасть настолько велика, что не стоит делать и попыток примирить их друг с другом? Возможен ли конструктивный диалог философии и богословия? Может ли культурология стать связующим звеном при попытке такого диалога? На эти и другие темы мы беседуем с профессором Александром Доброхотовым, специалистом по истории и теории мировой культуры.
— Александр Львович, насколько, на ваш взгляд, возможен диалог философии и богословия?
— Диалог этот очень старый, ведь философия возникла намного раньше, чем христианское богословие. Богословие прорастало из античной философии, и первые образцы их диалога появились в эпоху отцов Церкви. Тогда Церковь получила новое знание, и его необходимо было оформить на языке античной культуры. Все проб-лемы, связанные с диалогом, возникли в первые века существования христианского богословия. Во-первых, можно ли вообще перевести на мирской язык христианскую мысль? Во-вторых, если перевести, то для чего? Это было уже миссионерской задачей. Третья задача — апологетическая. Впоследствии она стала более сложной: кроме апологии появилась необходимость формирования собственной мысли. Когда христианство стало официальной и, позже, единственной конфессией Рима, возникла потребность в языке теоретического, диалогического философского знания.
Проблема заключалась в том, что существовала определенная несовместимость богословия и античной философии. Истины откровения — это знания, пришедшие из другого мира, из другого измерения. Они не рассчитаны на улучшение этого мира. А вся античная философия и философия в целом ориентирована на то, чтобы найти место в этом мире. Мир можно отрицать, но,
отрицая, я понимаю, что нахожусь в этом мире. Получается, что помимо христианского знания необходима вторая точка зрения на мир. Между прочим, эту задачу еще никто не решил — она не имеет тривиальных решений.
Если мы посмотрим на диалог философии и веры, или, в более узком смысле, богословия, то увидим разные, как сейчас говорят, парадигмы.
В античную эпоху богословы просто пользовались языком философии как инструментом. Это было по-своему мудрое решение, потому что иноприродность этих двух типов знания признавалась изначально. В этом смысле все равно, какой язык вы используете. Притом что союз платонизма с христианством более естественен, отцы Церкви спокойно использовали и язык стоиков, эпикурейцев, Аристотеля и киников. Это шокирующий парадокс: богословию в принципе все равно, к какой философии обратиться, лишь бы к данной ситуации подошел данный инструмент, — потом можно будет его отбросить. Так было до конца Средневековья.
Затем начинаются уже иные процессы. Опыт Средневековья, когда богословие включает в себя все типы знания, не оправдался. Больше всего от этого пострадало само богословие, потому что оно втянуло чужой материал и пережило известный кризис. Мыслители Нового времени пытались найти глубинные переклички философии и богословия. Были опробованы многие модели отношений, но опыт закончился тем, что было решено сохранить раздельные, автономные территории философии и богословия. По этому поводу есть знаменитая формула Э.Жильсона. В полемике со своим оппонентом он сказал, что существует философ-христианин, но не существует христианской философии. Так же, как может быть сапожник-христианин, но нет сапожного христианского ремесла. То есть это разные измерения.
Такая позиция оправдывается: наш Серебряный век это хорошо доказал. Его мыслители не выработали единой христианской философии, но это были — по большей части — философы‑христиане. Их концепции кристаллизовались вокруг личности автора, и потому ситуация была менее конфликтна. В тех же случаях, когда философы излишне глубоко внедрялись в богословие, уже возникали проблемы. Скажем, у отца Сергия Булгакова. Конечно, его построения стоят на грани ереси. Как и у Флоренского, между прочим. Но там, где философы жестко проводили границы (например, братья Трубецкие, Соловьев), как раз и получался диалог. Диалог и обозначает взаимоотношения между разными субъектами, ведь когда все одинаково, можно и молчать — проблемы нет.
Кстати, для современности диалог философии и богословия — не очень острая проблема, хотя есть ожидание будущих всплесков. Мировая философия сейчас вообще находится в полуобморочном состоянии. Отечественная же развивается в своем неспешном ритме, и я бы сказал, что мы переживаем неплохой период накопления сил. А в мировом масштабе происходит какой-то коллапс, по-видимому временный.
— А современное богословие? Не считаете ли вы причиной застоя его замкнутость?
— На мой взгляд, богословие вообще «прилегло отдохнуть». Но это общая особенность нашего времени. Сейчас пауза: одна эпоха закончилась, другая понемногу начинается. Нет стимулов для построения новой картины мира. Это видно по многим дисциплинам: они втянулись в себя, в свои глубины. Да и где сейчас оживление? Даже в науке, которая объявила себя локомотивом прогресса, идет лишь внутренняя работа.
— В период этой паузы появилась и начала развиваться культурология. Чем это можно объяснить?
— Культурология только что возникла и переживает — и у нас, и на Западе — сравнительно активный период. Это свежая выдумка, притом что историю культурологической мысли можно проследить с античности, и уж точно — с XVIII века. Но как гуманитарная дисциплина она нова. Нова именно попытка посмотреть на мир с точки зрения системного производства искусственных предметов.
Что такое, собственно, культура? Это целесообразное производство искусственных предметов, которые не производятся природой. Для этого, во-первых, мы берем как материал природу. Но природа уже существует как система, в ней есть свои законы. А с точки зрения богословия и того более: природа создана недоступной нам Божественной волей, но и не внедряться в нее мы тоже не можем, потому что человек в лице Адама в природе что-то сломал. Таким образом, есть изначальное зло в человеке, и он его привнес в природу. Вообще-то говоря, он обязан исправить эту ситуацию. А исправляя, должен учитывать, что туда уже заложена определенная программа, мы имеем дело не с аристотелевской пустой материей.
Во-вторых, начиная что-то делать, человек исходит из законов разума и своих потребностей (я беру оптимистический вариант). Очень быстро выясняется, что здесь тоже произвола нет, потому что у разума есть свои собственные законы. И опять-таки — с точки зрения богословия — разум вложен в человека Богом. Более того, сам человек как существо создан по образу и подобию Божию. И оказывается, что произвол нашей воли как бы ограничен «сверху» тем, что мы привыкли называть Духом. Есть объективная реальность этого Духа. Мы не можем отменить законы логики, законы этики. Мы можем нарушить их сто раз, но отменить не можем.
Над природой мы тоже в конечном счете не властны. Значит, как минимум, создавая свой искусственный предмет — культуру, мы должны понять, что такое эти две закономерные реальности. Образно говоря — земля и небо. «Снизу» — природа, «сверху» — законы неба. И это еще не все: когда мы начинаем продуцировать эти предметы, они тоже становятся объективной реальностью. То есть мы придумываем одно, предмет становится другим и вступает в контакт с прочими предметами, которым нет счета, но у которых есть своя, не согласованная с нашим произведением, программа. Это уже то, что называют культурой.
Проще говоря, люди генерируют смыслы, а эти смыслы вступают в самостоятельные отношения друг с другом. Человек должен мало того что природу и дух познавать, но еще и познавать то, что он сам сделал, корректировать сделанное, соглашаться или не соглашаться.
Если резюмировать сказанное, то мы имеем дело с воплощением смысла, который с момента своего воплощения выходит из-под нашего контроля. И слава Богу. С одной стороны — кто мы такие, чтобы контролировать целое, манипулировать объективностью? С другой же стороны, мы несем ответственность за содеянное. Выход один: мы должны знать, по каким законам происходит объективация творчества и сплетение его продуктов в целостность. Понимая законы воплощения смысла, мы понимаем культуру. Для христианского сознания здесь проблема острее, чем для светского. Потому что христианство — религия воплощенного Слова. И этим оно отличается от множества других конфессий. Здесь речь идет не только о том, что мы должны выполнить какой-то урок в этом мире и потом получить награду или наказание. Мы должны заботиться о высшем воплощенном смысле, потому что Слово стало плотью, и значит, стало беззащитным. Мы обязаны служить этой истории Воплощения. И получается, что без культурологии не обойтись.
— То есть культурология обязана находиться в постоянном диалоге с богословием?
— Как раз наоборот, это необходимо богословию. Культурология может быть какой угодно: светской, атеистической. Хотя последнее не очень хорошо получается, но возможно. А вот богословие должно постоянно взаимодействовать с культурологией. По крайней мере, учитывать ее результаты и строить свое богословие культуры. Прямая обязанность богословия — это правильно понять все моменты воплощения смысла. А для этого надо понять, как работает эта машина культуры. Тут уже задача нейтральной науки. То, что кафедра культурологии входит в состав миссионерского факультета ПСТГУ, может быть и случайно, а может быть и промыслительно правильно. Ведь при зарождении культурологии миссионеры были одним из передовых отрядов в формировании науки, хотя об этом и мало пишут.
Кто вообще занимался прикладной и, я бы даже сказал, полевой работой культурологии? Миссионеры — иезуиты, францисканцы, которые изучали чужие культуры и пытались понять, как Слово Божие донести до людей других культур. Работа была проведена огромная. Взять хотя бы Латинскую Америку, Китай, Японию и, между прочим, Россию. Один из первых культурологов-русистов, если так можно сказать, — Крижанич*. То есть человек, который по прямому поручению Папы Римского приехал, чтобы изучать Россию. Дальше, конечно, началась чисто русская история: его посадили, потом отпустили — он стал яростным славянофилом. Понять чужое, интерпретировать и наладить мосты между культурами — это все стоит на технике культурологического анализа. Инженер, строя мост, должен знать законы физики. А если речь идет о воплощении смысла, значит, надо знать законы культуры. Здесь даже не проблема диалога, а просто прямая богословская работа.
— Можно ли говорить о том, что новый язык, который выработала культурология, наиболее адекватен для диалога философии и религии?
— Этот язык более адекватен, чем философский, и культурология — такая же обязательная для богословия наука, как герменевтика, которая тоже возникла в лоне богословия. Скажем, надо научиться толковать текст. Для филолога это может быть интересной задачей, а для богослова — обязательной, потому что он получил Откровение в виде Книги. Значит, он должен учиться, во-первых, понимать и переводить Откровение на свой язык и, во-вторых, сохранять то, что выше всякого понимания. Если угодно, культурология — это расширенная версия герменевтики.
Для религиозного сознания, особенно для христианского, культурология должна стать одной из основных дисциплин. Перед другими конфессиями стоит задача более простая. Там мир можно отодвинуть или отбросить, как в буддизме. Есть такое понятие «люди Книги» («ахл ал-Китаб»). Люди Книги — это три конфессии, которые признают авторитет Библии. Но иудеи и мусульмане все-таки считают, что образное воплощение божественного невозможно и даже табуировано, поэтому их отношение к культуре чуть-чуть проще. Они могут себя чувствовать свободнее. Ведь если ты выполняешь запреты, то оставшимся материалом можно играть спокойнее, с чистой совестью. Но христианство признает прямое воплощение Слова. Бог не просто спасает людей — Он становится человеком. Это главный парадокс христианства.
— То есть христианская культура чувствует большую ответственность?
— Да, если Бог стал человеком, то я не могу пренебрегать человеческим. В масштабах истории видно, что альтернатив нет. Перед христианами стоит проблема преображения мира, а не преодоления, не борьбы с миром, не примирения — это все другие пути. В этом мире существует воплощенный Смысл, которым я не имею права пренебрегать. Я бы сказал, что это жесткая обязанность христиан — понимать механизм культуры, и это отнюдь не противоречит научной объективности.
— Какими вам видятся перспективы взаимодействия культурологии и богословия?
— Поскольку культурология — новая наука, перспектив в смысле открытого и непройденного пути у нее много. Ей еще предстоит стать гуманитарной наукой (мы не должны путать ее с философией культуры, которая существует 2500 лет в рамках философии). Пока же есть только «протокол о намерениях»: мы хотим познать механизмы культуры. У культурологии нет того, что есть, скажем, у лингвистики. Какая-то понятийная база, которой, сколько и о чем бы лингвисты ни спорили, они пользуются; есть языковые структуры как предмет; более или менее понятно, какие здесь основные законы, что, собственно, изучать. Или социология — наука такая же молодая, как культурология. Но у нее есть наработки, принятые методы изучения групп, коммуникаций и т.п. В фондах культурологии нет ничего вообще, она в этом смысле похожа на философию. Как правило, большой теоретик начинает с нуля, все разрушает, выдвигает новые концепции. Само слово «культурология» наше, доморощенное. В Америке есть антропология культуры — она базируется на прикладных исследованиях нравов и обычаев; есть cultural studies — это специфический микроанализ обыденной культуры. А нам нужны предельные смыслы, которые объясняют сразу все, поэтому наша культурология стремится к философии.
У культурологии должен быть минимальный общепризнанный инструментарий, который можно использовать. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны: в образовании есть раздел преподавания истории культуры, которую уже не путают с историей искусства, с историей философии. С теорией, конечно, пока слабовато. Но все же методика и какой-то общий язык понемногу формируются. Особенно это видно по словарям и энциклопедиям: в 1990-е это был полный хаос, а сейчас предметность культурологии кристаллизуется. В 2007 году вышла двухтомная энциклопедия по культурологии, и по ней уже видно, что происходит фильтрация методов, появляется специфическая предметность. Хорошие словарно-энциклопедические тома выпустил Российский институт культурологии.
— Вы возглавляете кафедру культурологии на миссионерском факультете ПСТГУ. Нет ли опасности, что подготовка культурологов-христиан будет подменена попыткой создать христианскую культурологию?
— Мы не покушаемся на другие подходы, мы говорим, что у нас своя задача в данном контексте. Здесь ничего страшного нет — изучают же артиллеристы динамику в физике, потому что им стрелять надо, но они не покушаются на физику. Поэтому еще раз подчеркиваю: речь идет не о христианской культурологии (хотя и так иногда можно выразиться), а речь идет о культурологии, которую христиане направляют на решение своих задач. Я считаю, что это очень важно.
Выпускник ПСТГУ выходит в мир и начинает работу по коммуникации с секуляризованным до предела миром. Религия системно искажается, ставится на службу чисто мирским задачам: религиозный кич, политическая пропаганда, квазирелигиозные культы. По сути, машина массовой культуры делает религию одним из своих жанров. Здесь без навыков расшифровки культурных языков миссионерская деятельность невыполнима. Надо уметь говорить иногда и на языке врага. Датский философ С.Кьеркегор называл себя «шпионом на службе Господней». В общем, он неплохо справлялся с этой работой, он замечательно умел говорить на языке немецкой романтической философии, на языке искусства. (Потом эту параболу повторил на свой лад М.Мамардашвили.) Если вы попадаете в чужой враждебный мир, и если не можете его уничтожить, но хотите его победить, значит, вы должны, как минимум, понять, как он устроен, и уметь говорить на этом языке.
— На какую школу культурологии вы советуете ориентироваться своим ученикам?
— Простой и самый разумный путь — на отечественную, она уже сложилась. На Западе есть мощные дисциплины, которые просто притягивают к себе тематику культурологии: антропология, социология, философия, во Франции это история цивилизации. У нас в России было ценное наследие Серебряного века, новаторские поиски 1920-х годов, а потом, в 70-е–80-е, идейное давление заставило людей, хранивших эти традиции, сжаться в одну компактную группу. Е.М. Мелетинский это называл «бродячим цирком»: человек 50 по всей стране, которые хорошо друг друга знали. Московско-тартуская школа, наша версия «школы Анналов» у Гуревича, своеобразная христианская герменевтика у Аверинцева и др. Это разнородное по сути сообщество так спрессовала эпоха, что из графита получился алмаз. Группа эта в 1990-е была всемирно известной. Ее члены вынуждены были искать междисциплинарные языки, поскольку были озабочены спасением того наследия, которое искоренял режим, и в то же время — поиском ответов на больные вопросы современности. На Западе этого было меньше. Хотя можно сказать, что французский поздний структурализм и постструктурализм тоже этот путь прошли. Что-то похожее было и у немцев, но это было связано с судьбой немецкого богословия и философии между войнами.
В России, действительно, культурология стала особой дисциплиной. Строго говоря, сначала научной школы никакой не было, просто люди себя так назвали. Но это оказалось хорошо, потому что в этой оболочке они выработали общие языки. Отсюда вышел целый пучок разных концепций. Я не сомневаюсь, что это и есть наш сегодняшний ресурс. То, как эти люди относились к европейскому началу, уже адаптированный для наших условий урок. Здесь не было притяжения или отталкивания, а была работа живого организма со средой, в которой можно чужое перерабатывать в свое. Студентам ПСТГУ даже проще это понять, потому что они, в каком-то смысле, находятся во враждебной среде и должны решать прикладные задачи, пользуясь теорией. Ситуация почти фронтовая: сейчас обостряются конфликты религий, мировоззренческие конфликты, стали сомнительными такие прежде аксиоматические вещи, как право и этика.
— Что бы вы посоветовали читать начинающему культурологу?
— Пожалуй, С.С. Аверинцева, если дело касается студента-христианина. Аверинцев — выдающийся христианский мыслитель. Он решал именно те задачи, о которых мы говорили, и много об этом писал. Особенно это видно, когда собрано вместе все, им написанное. Это идеальный учебник для студента-христианина. Хотя тут необязательно на конфессиональное родство ориентироваться. Я бы еще прибавил сюда Г.С. Кнабе, он, кажется, нейтрален как религиозный мыслитель. Его идея — энтелехия культуры, внутренняя живая форма, которая что-то осуществляет в истории, — может оказаться очень полезной.
Есть также Серебряный век. Хотя там много ядовитых продуктов, которые я бы своим ученикам не посоветовал. Но они же взрослые и должны научиться различать, что можно глотать, а что нельзя. С книгами сейчас хорошо, читай — не хочу (в частности, благодаря многотомной серии, изданной С.Я. Левит). Для культурологии есть все, что нужно.
Примечание:
Юрий Крижанич (ок. 1617—1693) — хорватский богослов, философ, писатель, автор многочисленных трудов по самым разным отраслям знания. Крижанич всю свою жизнь посвятил идее славянского единения. В 1659 г. прибыл в Москву, пропагандировал идею славянского единства, выступал за присоединение Украины к России. В 1661 г. был обвинен в поддержке униатов и отправлен в ссылку в Тобольск, где провел 16 лет и написал свои основные труды: «Политика», «О божественном Провидении», «Толкование исторических пророчеств», «О святом крещении», «Грамматическое изыскание о русском языке (идея всеславянского языка)».
Александр Львович Доброхотов — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории и теории мировой культуры Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и кафедры культурологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.