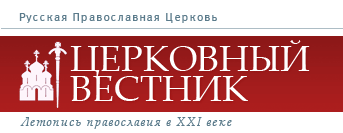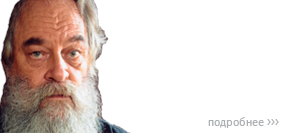1 апреля после тяжелой болезни отошла ко Господу Наталья Леонидовна Трауберг — христианский просветитель, публицист, переводчик. Отпевание почившей прошло 4 апреля в храме Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке. Проститься с Натальей Леонидовной пришли несколько сот человек. Большинство из них впервые увидели Наталью Леонидовну в монашеском облачении и апостольнике — будучи монахиней в миру, она носила имя Иоанны. Свое соболезнование близким почившей прислал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Наталья Леонидовна Трауберг переводила очень много, еще больше правила чужие переводы — невидимый миру труд двойного самоотречения, сначала во имя автора, потом во имя переводчика, как правило, куда хуже нее знавшего свое дело. И все же в памяти и истории она останется переводчиком прежде всего трех: Честертона, Льюиса и Вудхауза.
В юности она училась у О.М. Фрейденберг и В.М. Жирмунского, мечтала заниматься медиевистикой, но конец этим мечтаниям положила борьба с «космополитами» и то, что саму медиевистику в те годы, по словам Трауберг, «просто отменили». Наталья Леонидовна оказалась «сослана» в прозаический перевод. Можно сказать, что эта ссылка стала для нее уютным убежищем, но все же просто переводчиком она быть не смогла.
В 1950-е годы Трауберг переводила для издательства «Художественная литература» Гарсиа Лорку, Хулио Кортасара, Эжена Ионеско, Луиджи Пиранделло и др., а уже с конца 50-х — Честертона для подпольного распространения. В середине 60-х протоиерей Александр Мень дал понять своему ближайшему окружению, что Честертон — «это то, что нам нужно». Тогда-то и началась ее активная переводческая работа для самиздата. Именно о. Александр в 1972 году вручил Наталье Леонидовне трактат Льюиса «Страдание», с которого и началось знакомство с его книгами в России. По словам поэта и филолога Ольги Седаковой, переводы и благовестие Трауберг позволили укорениться на нашей почве «новой апологетике», существовавшей в ХХ веке только в Англии и предполагавшей «не побег от мира (в древлее благочестие, в «веру отцов»), а веселую битву с миром, битву непримиримую».
Обрести голос можно по-разному. Считается, что задача переводчика — как можно точнее передать смысл написанного на другом языке, и это действительно так. Но бывает, очень редко, что переводчик отдает автору свой голос. Наталья Леонидовна отдала свой голос трем любимым ею авторам. И тем самым, по евангельскому закону, обрела его. Лучшие переводчики «лицедействуют» в самом высоком смысле этого слова — и часто очень переживают из-за своей театральности. Она, уже как автор статей и воспоминаний, переживала о другом: о том, что ее собственный, неповторимый стиль примут за показной.
Много лет она только переводила, всю свою любовь к авторам вплавляя в переводы, и эта любовь была составляющим ее работы: «Всех писателей, очень любимых, которых я переводила, уже кто-то тоже переводил. Например, Честертона. Возможно, эти переводчики не настолько его любили, как я, но они были талантливы».
Хороших переводчиков много, но тех, кто берет на себя ответственность за своего автора, ответственность перед Богом и людьми, — единицы. Она взялась держать ответ за любимого с юности Честертона, позднее увидев в нем пророка, «переводчика с Божьего языка на человеческий своего времени» и «учителя надежды»; за Льюиса, наставника новоначальных и противоядия против мира сего, когда переводила его для самиздата; за «райского» Вудхауза, чья умная и детская веселость так помогает против «мерзейшей мощи». По-английски Честертон и Льюис, быть может, не совсем такие, как в переводах Н.Л., но по-русски они отныне говорят именно этим голосом, не столько переведенные, сколько вызванные к настоящей, полнокровной жизни (а Вудхауз при этом еще и поразительно «похож» на оригинал). Теперь невозможно переводить их, не сверяясь с этим голосом — не чтобы копировать, но чтобы почувствовать его звучание, как, переводя живого автора, нельзя не слышать звук его голоса, манеру его речи.
Собственный голос, отданный переводам, заново родился в них для проповеди. Доминиканская традиция с ее обетом всегда благовествовать оказалась ей особенно близка. С начала девяностых Н.Л. благовествует без передышки — в лекциях (от Беовульфа до Вудхауза), в радиопередачах, бесчисленных статьях и предисловиях. Как в Ленинграде 50-х годов странно было писать стихи, не «окормляясь» у Анны Ахматовой, так в Москве в последние два десятка лет странно было заниматься английскими христианскими писателями ХХ века (помимо основной троицы это Дороти Сэйерс, Чарльз Уильямс, Джон Толкин, Томас Элиот), не «благословившись» у Натальи Леонидовны. Это как-то разумелось само собою: Волга впадает в Каспийское море; блаженны плачущие, ибо они утешатся; хочешь заниматься английскими христианами как полагается — не греши, зайди в дом в Чистом переулке, что напротив патриархии. Она умела и любила общаться лично, и очень уставала от нескончаемых гостей, и жаловалась, и снова звала — собеседовать и, совсем незаметно, «окормлять». Культура ХХ века у нее за чашкой чая сгущалась до осязаемости: достаточно сказать, что Н.Л. была хорошо знакома с Ахматовой и Пастернаком, Бродским и Бёллем, дружна с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым и Томасом Венцловой. Своим физическим присутствием она сообщала «культурной жизни столицы» человеческое измерение.
Наталья Леонидовна была органически чужда какой бы то ни было партийности. В этом не было ни нарочитой бескомпромиссности, ни интеллигентского оппортунизма — широкая и разнообразная дружба была уютнее и естественнее любой партии, именно поэтому ее «круг» был так невероятно пестр и широк. Кроме того, советская действительность дискредитировала сам принцип организации в сообщества, и от этого нужно было скрываться либо в откровенно несоветских формах, вроде католического ордена, либо в игре (не случайно столь важное для Н.Л. честертоновское общество возглавлял ее кот), либо в общине — и, по всей видимости, таковую Н.Л. в конце концов обрела. Именно эту беспартийность она и проповедовала усерднее всего, не уставая говорить о том, как опасно привнесение в церковь советской привычки деления на своих и чужих, и как необходим и труден «царский путь» между искушениями «Севера и Юга», тоталитаризма и либерализма.
Большая часть жизни Натальи Леонидовны прошла при советской власти, и она переживала трагедию своей «больной страны» (слова из очень важного для нее стихотворения Честертона) именно как духовную болезнь. Она считала, что борьба с симптомами этой болезни продолжается в душе каждого из нас: «Ясно, что советского в жизни ровно столько, сколько его в нас. Казалось бы, избавляться от именно своих советских свойств — это давно не идеология, а именно свойства души, но очень уж они въелись, и больше всего, как ни странно, у людей, пришедших в церковь. Свойства эти, зацепленные за себялюбие, — досада, самоутверждение, невнимание к другим, — часто проявляются в одном действии, которые обстоятельные католики назвали бы грехом против надежды, а заодно — и против милосердия».
Образ «странной барышни» — а в случае чего и «махрового мракобеса» — помогал ломать границы, и Наталья Леонидовна этим виртуозно пользовалась. Наследница высокой христианской традиции юродства, она могла посреди академического собрания, неотвратимо сползающего в фальшь и мертвечину, вдруг встать и сказать что-то очень простое и совершенно необходимое. Она не была бойцом, но, когда нужно было сказать слово истины, вела себя достойно.
В последние десятилетия Н.Л. была тем, что по-английски называется moral teacher, а на русский толком не переводится (в двухтысячных один за другим вышли ее сборники «Неожиданный Честертон», где малоизвестные переводы Честертона чередуются с рассказами о нем и о истории его восприятия в России, «Невидимая кошка», где собраны эссе и предисловия к публиковавшимся прежде переводам, и, наконец, «Сама жизнь» — собственно moral writing в форме автобиографических заметок). Язык не поворачивается назвать ее учителем или апологетом, хотя надо бы: она не поучала, а самим своим присутствием запечатлевала в душе читателя и собеседника узор, который нельзя исказить, не растеряв красоту и евангельскую радость. Так учат добродетели «Цветочки святого Франциска», «Полианна» и милостивые верующие бабушки, легенды о которых живут едва ли не в каждой семье. «Золотым правилом» Натальи Трауберг стали слова, сказанные ее дочери литовским священником Станиславом Добровольским: «Со всеми считайся и туфельки ставь ровно». (Мне эта заповедь была изречена в ответ на предложение направиться по совершенно пустому вестибюлю метро, предназначенному, однако же, для встречного движения. Тогда, после некоторой дискуссии, было решено, что Сократ и Франциск, даром что были юродивыми, определенно слушались бы указателей и светофоров.)
Хорошо, если это «золотое правило» удастся усвоить. Прекрасно сверх всякой меры, если удастся сохранить и передать дальше сам духовный облик Натальи Леонидовны, ведь христианство живо не идеями, а личностями, передачей «эстафеты» из рук в руки. Ее эстафета — удивительное соединение свободы и милости, тишины и достоинства, зоркости и надежды.
Господь, «Творец доброго смеха», по слову Льюиса, призвал ее к Себе 1 апреля. Как тонко и весело благословляет верных Своих Бог Честертона и Вудхауза, Покровитель мудрецов и блаженных!
* * *
Моя пятилетняя дочь спрашивает, кто эта бабушка, с которой мы так долго беседовали:
— Она что, книжки переводит?
— Не только, она — волшебница.
— Настоящая?
— Настоящая.
В последние недели она встречает меня словами:
— Ну как там волшебница Наталья? В порядке?
Да, вот теперь волшебница в порядке.