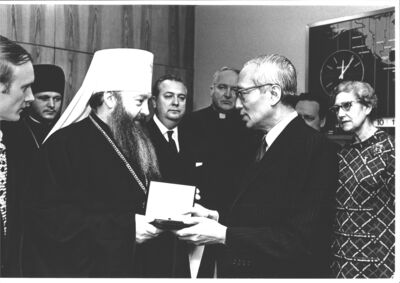Международная деятельность Русской Православной Церкви в ХХ веке вызывает интерес у исследователей и ученых, занимающихся историей Церкви. Один из сложных периодов внешних церковных контактов связан с именем митрополита Никодима (Ротова) — выдающегося иерарха второй половины ХХ века, день памяти которого 5 сентября. Возглавив 65 лет назад Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС) Московской Патриархии после митрополита Николая (Ярушевича, † 1961) — первого председателя ОВЦС, митрополит Никодим выстраивал международное сотрудничество Русской Церкви в 1960–1972 годах. Этот период ознаменован активной деятельностью на площадках международных христианских организаций, борьбой за русское монашеское присутствие на Святой Горе Афон, уврачеванием церковных расколов, что привело к образованию Православной Церкви в Америке как самостоятельной Поместной Церкви и установлению канонической связи с Японской Православной Церковью в составе Московского Патриархата. Русская Церковь демонстрировала стремление к христианскому единству, что проявилось в ее деятельности во Всемирном совете Церквей и других международных христианских организациях. PDF-версия.
Содержательная международная деятельность Русской Церкви в 1960-е — начале 1970-х годов резко контрастировала с внутренней жизнью Церкви, в которой наблюдался упадок, вызванный жесткой антирелигиозной политикой советского руководства.
Необходимо учитывать, что внешняя церковная активность в годы холодной войны не могла осуществляться независимо от внешней политики Советского Союза. В силу сложившихся обстоятельств Русская Православная Церковь была вынуждена придерживаться русла государственных приоритетов советского государства. В современной историографии часто встречается тезис об использовании СССР церковной деятельности на международной арене в своих интересах, но мало говорится о стремлении церковного руководства отстаивать интересы Церкви. Между тем Церковь использовала внешнеполитические планы советского руководства для решения собственных задач, в том числе по выживанию в атеистическом государстве.
Борьбу за отстаивание церковных интересов возглавил митрополит Никодим. Став председателем ОВЦС 65 лет тому назад, он был вовлечен во внешние церковные события, оказывал большое влияние на внутреннюю церковную жизнь, на взаимоотношения Церкви и Советского государства. Митрополит Никодим во главе русской церковной дипломатии отстаивал жизненные потребности Церкви в сложных исторических условиях, а его взгляд на место и роль церковной организации в государстве и обществе намного опередил свое время.
Межправославное сотрудничество
Митрополит Никодим уделял пристальное внимание взаимоотношениям Русской Православной Церкви с Поместными Православными Церквами. Московский Патриархат преследовал несколько целей: во-первых, посредством контактов с отдельными Поместными Церквами добиться усиления двусторонних связей, расширить круг дружественно настроенных автокефальных церквей, а во-вторых, содействовать укреплению общеправославного сотрудничества, что возвышало авторитет Русской Церкви в православном мире, усиливало ее вес на международной арене. Благодаря авторитету и поддержке со стороны дружественных церквей появилась возможность противостоять попыткам продвижения США и западных стран своих политических интересов в православном мире, в первую очередь через Константинопольский Патриархат. В Москве знали про связь Патриарха Константинопольского Афинагора I (Спиру, † 1972) с американскими властями. Деятельность Русской Церкви соответствовала планам советского правительства по сдерживанию политики Соединенных Штатов в религиозной сфере, использованию ими межправославных встреч для дискредитации СССР.
Советские власти были заинтересованы в развитии контактов Русской Церкви с Поместными Церквами, особенно в странах православной традиции, поскольку такие контакты служили дополнительной опорой двусторонних государственных отношений. Министерство иностранных дел СССР и в наибольшей степени советские посольства за рубежом оказывали немалую практическую помощь и содействие русской церковной дипломатии. В то же время сопряжение внешней церковной деятельности с советской международной политикой порождало в западных кругах обвинения Русской Церкви в зависимости от коммунистического режима и продвижении его интересов.
Однако было бы неверно утверждать, что межправославные отношения с участием Московского Патриархата были исключительно политизированными. Автокефальные церкви выражали интерес и стремление познакомиться с духовной традицией друг друга, а через это происходило их сближение.
Укреплению двусторонних связей Московского Патриархата с Поместными Православными Церквами служили визиты на уровне предстоятелей церквей, поездки официальных делегаций и отдельных церковных представителей, деятельность подворий, сотрудничество в сфере межправославных отношений, межхристианских контактов, борьбы за мир и разоружение, академические, научные, информационные, издательские обмены, финансовая и гуманитарная помощь, которую оказывало руководство Московского Патриархата представителям автокефальных церквей. В результате многолетних усилий Отдела внешних церковных сношений и лично митрополита Никодима Русская Церковь получила поддержку дружественных церквей. И даже в тех Поместных Церквах, которые было сложно причислить к ближнему кругу Московского Патриархата, ширилось число доброжелательно настроенных, открытых к сотрудничеству иерархов и священнослужителей. Московский Патриархат становился центром притяжения в православном мире, а его влияние среди Православных Церквей возрастало, и с этим влиянием был вынужден считаться Константинопольский Патриархат.
Между Русской Церковью и отдельными автокефальными церквами порой возникали конфликты. Этот факт отмечал в докладе на Поместном Соборе 1971 года Местоблюститель Московского Патриаршего престола митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков, † 1990). При этом иерарх указывал на задачу церквей терпеливо, в духе братской любви и ответственности перед Богом преодолевать разномыслие и стремиться к восстановлению согласия1. Причин для осложнения ситуаций в межправославных отношениях было немало. Одним из самых резонансных событий стало дарование Московским Патриархатом автокефалии Православной Церкви Америки в 1970 году. Инициатором американской автокефалии с русской стороны выступил митрополит Никодим. Он предвидел реакцию Фанара и Поместных Церквей на решительный шаг Москвы (автокефальные церкви разделились на сторонников и противников этого решения и тех, кто занял нейтральную, выжидательную позицию) и рассчитывал на то, что даже такое сильное испытание единства мирового православия не приведет к разрыву общения между церквами.Московский Патриархат выступал в поддержку всеправославных встреч и всестороннего православного сотрудничества, при этом не забывая о защите интересов русского православия, в первую очередь в диалоге с Константинопольским Патриархатом. Благодаря твердой позиции московского священноначалия на I Родосском Всеправославном совещании 1961 года удалось побудить Фанар содействовать решению ряда межправославных проблем.
Межхристианские связи
Взаимоотношения Русской Православной Церкви с христианскими церквами разных стран явились одним из главных вопросов в повестке Отдела внешних церковных сношений. Эти взаимоотношения характеризовались совместной работой для достижения общих целей в решении острых проблем того времени.
Главной мотивацией и содержанием контактов христианских церквей стало их стремление узнать об особенностях духовной жизни, традициях и деятельности друг друга. Церковные иерархи проявляли желание познакомиться с вероучением партнеров по общению, стремились найти общее в догматике, экклезиологии и сакраментологии, в целях поиска церковного единства рождались богословские диалоги между церквами. Взаимодействие в научной сфере позволило сблизиться и оценить перспективы возможного единства. Кроме того, богословские диалоги, которые велись Московским Патриархатом не только в двустороннем, но и в многостороннем формате на всеправославном уровне, стали частью повестки межправославных встреч, служили укреплению сотрудничества Поместных Православных Церквей. Наконец, взаимодействие ученых помогло поднять отечественную церковную науку на международный уровень, что было актуально для русского богословия, практически уничтоженного в послереволюционные годы, обогатило новыми темами академические богословские дисциплины, возбудило интерес к науке не только у профессоров и преподавателей, но и у студентов духовных школ.
Отношения Московского Патриархата с христианскими церквами отличались разнообразием: официальная переписка, обмены визитами церковных делегаций и отдельных представителей, церковными изданиями, периодическими журналами, богословской и богослужебной литературой, информацией; академические контакты и сотрудничество, взаимодействие на площадках Всемирного совета Церквей (ВСЦ) и Христианской мирной конференции, в том числе в вопросах борьбы за мир и разоружение, демонстрации солидарности, оказание помощи и поддержки в тяжелых обстоятельствах.
В ряду межхристианских контактов Московского Патриархата большое внимание уделялось Римско-Католической Церкви. Руководство ОВЦС было заинтересовано в развитии связей с Католической Церковью — влиятельной в западном мире, а советское руководство стремилось наладить отношения с Ватиканом, и эта задача была невыполнима без привлечения к ее решению Русской Церкви. Католическая тема имела значение для Москвы и по причине нежелания допустить слишком близкого сближения Фанара и Ватикана. Переплетение церковных и государственных интересов привело к отправке наблюдателей Русской Церкви на Второй Ватиканский собор 1962–1965 годов.Расширение круга христианских связей способствовало укреплению международного авторитета Русской Церкви, который противостоял стремлению советских атеистических властей окончательно маргинализировать церковную жизнь в СССР. Председатель ОВЦС прилагал большие усилия для развития существующих и налаживания новых связей с христианскими церквами. Такая тактика доказывала необходимость Церкви для государства.
Участие Русской Церкви в деятельности международных христианских организаций и объединений
Стремление к единению разрозненного христианского мира ярко проявилось в деятельности Всемирного совета Церквей, региональных экуменических и молодежных христианских организаций, в том числе с участием представителей Русской Церкви. Большое значение для нашей Церкви имело вступление в ВСЦ в 1961 году. Несмотря на то что инициатива членства Московского Патриархата в международной христианской организации принадлежала советским властям, Русская Церковь использовала это членство в своих интересах. Во-первых, она получила трибуну, с которой ее церковный голос стал слышен всему миру. Во-вторых, растущий авторитет Московского Патриархата в христианской среде принуждал советские власти принимать его во внимание при реализации политики в религиозной сфере. Наконец, благодаря участию Русской Церкви в экуменическом движении западный мир узнавал о русском православии, открывал для себя его традиции. Участник межхристианских встреч митрополит Питирим (Нечаев, † 2003) отмечал: «Первые наши шаги в области экуменизма были очень важным для западного мира открытием действительной, реальной картины жизни Русской Православной Церкви»2.
В 60-х годах XX века в христианской среде было особенно заметно воодушевление от всеобщего христианского единения. Стремление к объединению христиан, общин и самих церквей на основе евангельской веры проявлялось в первую очередь в протестантской среде. Движение к христианскому единству затронуло Поместные Православные Церкви, сказалось оно и на Римско-Католической Церкви. Деятельность Всемирного совета Церквей, пополнявшегося православными участниками, проведение Второго Ватиканского собора, широко распахнувшего двери наблюдателям из Православных Церквей, Древних Восточных Церквей и протестантских церквей, многочисленные двусторонние и многосторонние международные христианские встречи свидетельствовали о запросе на христианское взаимодействие.
Русский религиозный философ С. Л. Франк связывал духовную открытость Русской Церкви ко всеобщему христианскому братству с углубленной христианской верой, которая, по мысли Семена Людвиговича, возгоралась через страдания и мученичество Церкви3. Как «священную задачу» оценили члены Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года создание условий для приближения вероисповедного единства разделенных христиан4.
Митрополит Никодим был сторонником христианского единства, верил, что оно достижимо. Однако руководство ОВЦС видело перспективу объединения в рамках ВСЦ лишь как плод достижения вероучительного единства между христианскими церквами на основе Предания неразделенной Церкви эпохи первых семи Вселенских Соборов5. Движение Московского Патриархата по пути христианского единения не предполагало готовности его руководства поступиться догматическим учением, равно как и воспринимать ВСЦ не в качестве органа, объединяющего церкви, а как некую «сверхцерковь».
Ни о каком компромиссе в вопросах веры не шло и речи во внешнецерковных трудах председателя ОВЦС. Современник митрополита Никодима английский христианский деятель Брайн Купер отмечал: иерарх в своей деятельности никогда не ставил под угрозу свою полную преданность Русской Церкви6. Митрополит Никодим, открытый к официальному и неформальному общению с представителями различных христианских церквей, легкий на подъем, был в буквальном смысле другом многих христианских деятелей. Первый генеральный секретарь ВСЦ В. А. Виссерт-Хуфт вспоминал о своем общении с молодым архимандритом Никодимом в ходе своей поездки в Москву в декабре 1959 года: «Во время наших путешествий мы проводили вместе с ним много часов, и он засыпал меня вопросами о других церквах и экуменическом движении. Моему другу Александру де Веймарну, который выступил в качестве переводчика, было трудно выдержать этот бесконечный перекрестный допрос»7.
В ходе многочисленных зарубежных визитов и встреч, посещений инославных соборов и храмов, монастырей и монашеских общин председатель ОВЦС присутствовал на богослужениях, порой возглавлял общую молитву, но не позволял нарушить границу, которая могла бы повредить его вере. Ему было несвойственно поступаться вероучительными принципами, чтобы понравиться партнеру по общению, сорвать аплодисменты в свой адрес. Митрополит Никодим был довольно строг к себе и подчиненным в вопросе границ дозволенного. На IV Генеральной ассамблее ВСЦ в июле 1968 года в Упсале в ходе одного из рабочих заседаний митрополит Никодим обратил внимание на необходимость исключить из проектов документов упоминание о том, что христиане должны принимать евхаристию друг у друга в воскресный день. «Мы, православные, не согласны с таким интеркоммунионом», — твердо заявил председатель ОВЦС8. В своем докладе «Русская Православная Церковь и экуменическое движение» на ассамблее митрополит Никодим поддержал те тезисы доклада второго генерального секретаря ВСЦ Ю. К. Блейка, в которых отмечалась важность христианской стойкости перед лицом «еретичествующего богословского модернизма». По мнению председателя ОВЦС, пастырский подход к сторонникам модернистских взглядов, предложенный генеральным секретарем, не должен означать готовности без конца мириться с любым произволом в области интерпретации христианской веры9. На категорический отказ деятелей Русской Церкви от модернистских тенденций, распространенных на христианском Западе, обращает внимание современный немецкий историк Г. Штриккер10.
Неоспоримым является тот факт, что ни один из богословских диалогов с инославными церквами, в которых принимала участие Русская Церковь, не привел к достижению единства в вере и установлению молитвенного и евхаристического общения, поскольку официальные представители Московского Патриархата не были готовы к вероучительным компромиссам на пути к такому единству. Чаяние единства всех христиан на земле вынужденно уступило место христианскому сотрудничеству и солидарности, например, в вопросах социально-экономического устройства и в деле борьбы за мир. Представители Московского Патриархата в сотрудничестве с другими христианами внесли вклад в решение многих общественных и политических проблем того времени.
Председатель ОВЦС придерживался весьма сбалансированной позиции по отношению к христианской интеграции, призывая «бодрствовать, проявлять спокойную рассудительность, взвешивать каждый новый шаг, остерегаться и слишком радужных оценок, и тем более идеализации современного экуменизма, равно как и преувеличения мрачных на него взглядов и пессимистических прогнозов»11.
Борьба Московского Патриархата за разоружение и мир между народами
Еще одной сферой международной активности Русской Православной Церкви стало миротворческое служение. Эта сфера получила развитие после окончания Второй мировой войны, преимущественно с началом холодной войны между СССР и его союзниками и США, возглавлявшими западный политический лагерь.
Миротворческая деятельность и борьба Русской Православной Церкви за разоружение следовали евангельской заповеди о миротворцах, отвечали миссии Церкви в обществе по прекращению войн и насилия. Кроме того, церковное участие в международном движении сторонников мира содействовало укреплению позиций Московского Патриархата в советском обществе и позволяло выходить на глобальный уровень с позитивной повесткой, что помогало преодолеть замкнутость внутри атеистического государства.
Советские власти, в свою очередь, преследовали собственные интересы, контролируя участие Русской Православной Церкви и других христианских церквей и религиозных общин Советского Союза в глобальном движении сторонников мира. Руководство государства стремилось посредством мирного движения снизить эскалацию международной напряженности, поддерживать имидж СССР как сторонника всеобщего разоружения и справедливого решения региональных военных конфликтов. Московскому Патриархату, по замыслу властей, необходимо было способствовать объединению христианских церквей на основе миротворческой повестки, содействовать формированию фронта сторонников добрососедства народов. Позиции Русской Церкви и Советского Союза как по вопросам всеобщего разоружения, так и решения глобальных и региональных военных конфликтов должны были быть едины, шла ли речь о заключении международного договора о запрещении испытаний ядерного оружия, о Карибском кризисе или о войне во Вьетнаме.
Миротворческая деятельность стала, пожалуй, единственным направлением международной активности Русской Церкви, в котором проявилась ее тесная связь с советским государством.
Консолидации церквей стран социалистического лагеря в сфере борьбы за мир служила Христианская мирная конференция (ХМК), штаб-квартира которой располагалась в Праге. Деятельность ХМК находилась под сильным влиянием со стороны государственных ведомств по делам церквей социалистических стран, в первую очередь СССР, что вызывало нарекания западных христианских участников пражской конференции. Впрочем, политизация миротворческого служения христианских церквей шла и со стороны властей западных стран, главным образом США, создавая напряжение внутри всего международного мирного движения и ослабляя эффект от его инициатив.
Митрополит Никодим, являясь президентом ХМК, оказывал большое влияние на деятельность конференции. Заслугой иерарха стало преодоление кризиса в пражском христианском мирном движении, пик которого пришелся на момент ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
Митрополит Никодим за свою активную миротворческую деятельность и усилия по сближению народов в 1972 году получил мировое признание — ему была вручена медаль Мира Организации Объединенных Наций.
Русская Церковь и советское государство в сфере международных отношений
Рассказ о внешних церковных связях ОВЦС во время руководства отделом митрополита Никодима был бы неполным без упоминания специфики взаимоотношений Церкви и советских властей в сфере международных отношений.
Внешние церковные связи в 1960-е — начале 1970-х годов были неотделимы от международной политики Советского Союза, служили продвижению ее повестки. Власти контролировали международные церковные контакты посредством Совета по делам Русской православной церкви (религий), а по ряду важных направлений и принципиальных вопросов оказывали прямое воздействие на Церковь, добиваясь нужных для себя решений. В первую очередь это касалось сфер, в которых усилий лишь советской дипломатии было недостаточно: борьба за мир и против гонки вооружений, противодействие попыткам западных стран создать антисоветский христианский альянс под эгидой Ватикана, Всемирного совета Церквей или региональных христианских объединений, в первую очередь Конференции европейских Церквей, а также Фанара.
Подход советских властей к международной активности Церкви был прагматичным: государство направляло и поддерживало лишь те действия церковной дипломатии и контакты священноначалия за рубежом, которые соответствовали интересам советского государства. Там, где такого интереса не наблюдалось, государство предоставляло Церкви ограниченную свободу действий под строгим контролем со стороны Совета по делам Русской православной церкви (религий).
Между советом и Отделом внешних церковных сношений на международном направлении установились отношения, которые были далеки от партнерских. Каждый шаг на внешнецерковном поприще должен был получать одобрение советских властей.
Совет влиял и на кадровую политику Церкви. Руководство государственного ведомства было одним из организаторов устранения митрополита Николая (Ярушевича) с должности председателя ОВЦС, что знаменовало собой начало реализации курса правительства, нацеленного на искоренение религии в советском обществе и на более активную внешнецерковную деятельность в советских интересах.
Митрополит Никодим, заняв пост председателя отдела, стал активно расширять международные контакты Церкви. Расчет председателя ОВЦС был на то, что церковный авторитет, приобретенный в результате активности на международной арене, сможет послужить сдерживанию советского государства в проведении антирелигиозной кампании, поскольку власти будут вынуждены учитывать реакцию международного христианского сообщества на факты притеснения Церкви в СССР. Этот расчет оправдался, а планы властей искоренить Церковь из жизни советского общества рушились.
При этом нельзя и переоценивать значение внешних церковных связей для сохранения церковной организации в Советском Союзе. Международная церковная активность не могла существенно повлиять на изменение политики государства в отношении Церкви. Священноначалию удавалось не допустить закрытия и разрушения тех храмов и монастырей, духовных школ, которые оказались связаны с внешнецерковной деятельностью. Власти стремились оставить Церкви лишь некоторый минимум, который бы позволил демонстрировать иностранным гостям не существующую в действительности религиозную свободу в СССР.
В 60-е — начале 70-х годов XX века Русская Церковь существовала в границах возможностей, установленных для нее правительством. Однако и в таких условиях митрополит Никодим пытался придать партнерский характер церковно-государственным отношениям на международном направлении. Смелой мечтой иерарха было распространение этого опыта на отношения государства и Церкви внутри советского общества. Однако историческая эпоха, в которую он жил и трудился, не представила ему такого шанса. Лишь спустя тринадцать лет после кончины митрополита Никодима его замыслы в отношении церковно-государственных отношений воплотились в жизнь.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Жизнь и деятельность Русской Православной Церкви. Доклад Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена от 31.05.1971 г. // Поместный Собор Русской Православной Церкви 30 мая — 2 июня 1971 года. Документы, материалы, хроника. М.: Изд. Московской Патриархии, 1972. С. 48–49.
2 Александрова Т. Л., Суздальцева Т. В. Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима. СПб., 2007. С. 385.
3 Франк С. Л. Восточная Церковь и идея экуменизма // Философские науки. 2007. № 2. С. 27.
4 Решения Поместного Собора Русской Православной Церкви от 1.06.1971 г. // Поместный Собор Русской Православной Церкви 30 мая — 2 июня 1971 года. Документы, материалы, хроника. М.: Изд. Московской Патриархии, 1972. С. 128.
5 Тот К. Богословское, церковное и экуменическое значение митрополита Никодима // Журнал Московской Патриархии. 1980. №.
6 С. 59.6 Cooper B. G. Metropolitan Nikodim: An Appreciation // Metropolitan Nikodim. Peacemaker, ecumenist, theologian, pastor. Prague: Christian Peace Conference, 1980. P. 94.
7 Visser’t Hooft W. A. Memoirs. London: SCM press; Philadelphia: Westminster press, 1973. P. 268.
8 Отчет по V секции митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима от 1.08.1968 г. // Архив ОВЦС. Д. 55-Е. 1968. Ч. 3. С. 19.
9 Русская Православная Церковь и экуменическое движение. Доклад митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима // ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 176. Л. 168.
10 Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью / cост. Г. Штриккер. М.: Пропилеи, 1995. Кн. 2. С. 47.
11 Экуменическая деятельность Русской Православной Церкви. Содоклад митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима от 31.05.1971 г. // Поместный Собор Русской Православной Церкви 30 мая — 2 июня 1971 года. Документы, материалы, хроника. М.: Изд. Московской Патриархии, 1972. С. 79.
истианских организациях.