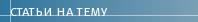
Дивеево в лицах Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь открывает гостям и паломникам внешнюю сторону своей жизни. Это величественные соборы, богослужения с вдохновенным пением насельниц, дивеевские музеи, где хранятся монастырские реликвии, святые источники. Внутренняя, духовная жизнь, исполненная послушаний и неустанной молитвы, скрыта от посторонних глаз. Ее заповедал дивеевским сестрам святой Серафим Саровский по указанию Самой Пречистой Богородицы, назвавшей Дивеево Своим четвертым уделом. Об особенностях монашеской жизни в Дивеевском монастыре, о том, что такое закрытые Литургии и в чем первая игумения Мария (Ушакова) служит примером для сестер, о необычных случаях помощи по молитвам к преподобному Серафиму узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
8 февраля 2024 г. 13:00
Игумения Сергия (Конкова): «С верой в Бога можно сделать и невозможное» В 2023 и 2024 годах в истории Серафимо-Дивеевского женского монастыря сразу две памятные даты: 120 лет со дня прославления преподобного Серафима Саровского (19 июля / 1 августа 1903 года) и 120 лет со дня кончины первой игумении обители Марии (Ушаковой; † 19 августа / 1 сентября 1904 года). Судьбы первой и нынешней дивеевских игумений имеют сходство. В 1991 году матушка Сергия (Конкова) так же, как некогда игумения Мария, приняла под свое руководство разоренную обитель и за несколько десятилетий привела ее к процветанию. В чем ее предшественница стала примером, как удалось не только возродить обитель, но и создать многочисленные скиты, в чем главные проблемы духовной жизни — об этом игумения Сергия рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
5 февраля 2024 г. 17:00
Нерушимая обитель и ее заступник Празднование Собору всех святых, в земле Тульской просиявших, приурочено ко дню памяти самого известного тульского святого — преподобного Макария Жабынского, Белёвского чудотворца (22 сентября / 5 октября). В 2023 году исполнилось 400 лет со дня кончины подвижника. Святой почитается как возобновитель монашеской жизни в Жабынской пустыни, а сама она является одним из духовных центров Тульской земли. К мощам святого и к цельбоносному источнику, выкопанному самим преподобным, регулярно притекают люди. О непростом пути обители, которую неоднократно пытались уничтожить, и о людях, которые вновь и вновь возрождали ее, материал корреспондента «Журнала Московской Патриархии» Александра Черепенина. PDF-версия.
12 января 2024 г. 17:30
К 165-летию основания скита Параклит Свято-Троицкой Сергиевой лавры. «От церковного служения никогда не откажусь» В девяти километрах от Свято-Троицкой Сергиевой лавры располагается скит в честь Святаго Духа Утешителя Параклита, который был основан по благословению святителя Филарета (Дроздова) и его духовника — преподобного Антония (Медведева). Первые скитские кельи с немногочисленной братией появились в 1858 году. Со временем братия увеличилась до двенадцати человек — по количеству Апостолов и по числу первых учеников преподобного Сергия. Устав скита отличался особой строгостью, неукоснительным исполнением молитвенного правила и уставного богослужения, постническим житием по уставу древних монахов, а вход женщинам за ограду был запрещен. По благословению святителя Тихона в 1920 году во главе этого подвижнического братства встал игумен Паисий (Ларин; 1869–1956), которому вскоре предстояло пройти лагеря, ссылки и тяжелые испытания безбожного ХХ века. PDF-версия.
5 января 2024 г. 15:00
Игумения Ксения (Чернега): «Стараюсь добросовестно исполнять свои послушания» Шестнадцатого июля 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества по случаю десятилетия возрождения древнейшей женской обители Москвы — Алексеевского монастыря, основанного в 1340 году родными сестрами святителя Алексия, митрополита Московского, преподобными Иулианией и Евпраксией. О пути к вере, восстановлении монашеской жизни при храме Всех святых в Красном Селе и об итогах десятилетия монашеской жизни Алексеевской обители рассказывает руководитель Правового управления Московской Патриархии, настоятельница Алексеевского ставропигиального женского монастыря города Москвы игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.
7 ноября 2023 г. 18:00
Божие благословение людям Псково-Печерский Успенский монастырь, древний удел Пресвятой Богородицы на северо-западе Руси, имеет важное значение для истории Русской Православной Церкви и русского монашества. Среди иноков выдающиеся церковные деятели, в том числе два Патриарха — Иоаким и Пимен — и восемь епископов. Печерская обитель, отмечающая 550-летие в 2023 году, за многовековую историю прославилась своими старцами. PDF-версия.
1 сентября 2023 г. 18:00
Печерские подвижники благочестия: традиция жива В этом году исполняется 550 лет со дня основания Успенского Псково-Печерского монастыря. У обители интересная история, братия живет насыщенной жизнью, ведет обширную миссионерскую деятельность. Но когда мы говорим о Печорах, первым делом вспоминаем старцев, которые испокон веков жили в этом монастыре и прославили его. О старцах Печор — наших современниках, о том, какими они были, рассказали игумен Хрисанф (Липилин) и иеромонах Прохор (Андрейчук), долгие годы жившие рядом с ними. PDF-версия.
31 августа 2023 г. 15:00
Родом угреня Борисоглебский монастырь в Торжке, основанный около 1038 года, — древнейшая обитель на нашей земле, сыгравшая важную роль в распространении христианства на Руси. История монастыря неразрывно связана с его основателем — преподобным Ефремом Новоторжским, 450-летие обретения мощей которого отмечается в июне этого года. Проанализировав различные источники и документы, российский ученый предлагает свою трактовку событий жития подвижника. Действительно ли Ефрем и его братья прибыли на Русь, как считается, из Венгрии, мог ли преподобный построить каменный храм во имя Бориса и Глеба, а также о том, почему святой Ефрем, скорее всего, был убит, «Журналу Московской Патриархии» рассказал научный сотрудник Всероссийского историко-этнографического музея, кандидат филологических наук Виктор Кузнецов. PDF-версия.
23 июня 2022 г. 17:00
Игумен Пантелеимон (Королев): «Моя задача — сохранять доверие братии» Свято-Троицкий Данилов монастырь — одна из архитектурных жемчужин Переславля. Основанный в XVI веке преподобным Даниилом Переславским на месте кладбища для странников, в удалении от городской суеты, он и сегодня хранит тишину и покой, располагающие к душеполезным размышлениям. При каких условиях создается настоящая монашеская семья, почему духовником обители должен быть ее настоятель и что для иноков сегодня самое сложное, «Журналу Московской Патриархии» рассказал настоятель обители игумен Пантелеимон (Королев). PDF-версия.
17 декабря 2021 г. 16:00
Желая Небесного Царствия В течение всего юбилейного года опубликовано множество материалов, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому. Еще большее количество научных трудов, научно-популярных и художественных изданий выходило на тему его жития ранее. В основном они касались политической деятельности святого князя, значимости его цивилизационного выбора, его военного таланта, его личного благочестия и т. д. При этом в житии князя Александра остается момент, который требует надлежащего осмысления, — это его христианская кончина. В истории последних дней святого князя Александра Невского «Журналу Московской Патриархии» помогает разобраться доцент кафедры теологии МПГУ священник Георгий Харин. PDF-версия.
5 декабря 2021 г. 14:00
|

ЖМП № 5 май 2010 /
14 мая 2010 г.
Се что добро или что красно, но еже жити братии вкупеВоспоминания о епископе Якутском и Ленском Зосиме игумена Иннокентия (Ольховского), эконома Данилова монастыря С будущим епископом Зосимой мы вместе прожили в Даниловом монастыре восемь лет. Многие отмечают его любовь и кротость. Для меня же особенно удивительными и радостными были, пожалуй, три черты его духовного облика. Во-первых, общение с ним дарило ясное ощущение — он монах от природы, Господь дал ему этот удивительный дар. Второе — его трепетное, неподдельно радостное и душевное отношение ко всем священническим обязанностям. И третье — его глубокая церковность. Монашество для епископа Зосимы было сознательным выбором. В нем епископ Зосима полностью раскрылся. В нем он чувствовал себя как рыба в воде. Он искренне говорил, что монашество — его естественное состояние. Конечно, монашество — это и сокровенный, внутренний труд. Если же говорить о внешнем, то в нем можно увидеть безрадостное, механическое выполнение монашеских обязанностей: чтение правила, поклоны, каноны. Но у владыки Зосимы и это всегда приобретало радостный посыл. Нередко он приглашал меня вместе почитать правило или, если это было Великим постом, то Евангелие. Все эти монашеские, можно сказать — не самые увлекательные — обязанности вызывали в его сердце живой отклик и всегда неподдельный интерес. Редко с кем монах может вместе прочитать свое правило. И начиналось для нас это еще в середине 1990-х, когда мы с ним поехали на море, в Бердянск (там наш знакомый священник имел небольшую хибарку на берегу) — ходили вдоль моря и читали вслух правило. И от этого испытывали неподдельную духовную радость. Зосима не был каким-то особенным аскетом, хотя очень интересовался жизнью древних отцов и внимательно читал жития и поучения. Сам смысл монашества как попытки уйти от мирских страстей, но не от людей, раскрылся для меня в епископе Зосиме по-новому. К нему приходило множество людей за советом, и он совмещал свое естественное, Богом данное состояние монашества с интересом к их радостям и вниманием к их горю, хотя это далеко не каждый может. Когда же он стал священником, духовником для своих довольно многочисленных чад, когда он стал часто совершать Божественную литургию, то говорил, что в этом тоже нашел свое призвание. Именно в священном служении. Для него служить Литургию было великой радостью. Для иеромонаха в монастыре, который плотно занят на послушаниях, который постоянно исповедует, любая просьба о совершении дополнительных треб — допустим, кого-то пособоровать, причастить, исповедовать — это дополнительная нагрузка. Тяжело бывает, просто физически тяжело. А Зосима откликался с такой готовностью, как будто только и ждал этого. К нему подойдешь (он еще не был владыкой), скажешь: «Отец, надо поисповедовать, а все заняты…» — «Конечно, — отвечает, — пусть приходят, всегда рад». И видно, что он действительно рад. Вот это совершенно неформальное — не по привычке, не по долгу — отношение к своим священническим обязанностям совершенно драгоценно. К нему приходило множество людей, которые хотели знать его мнение, получить совет, просто побеседовать. Священники знают, иногда это обременительно, но Зосима ни в коем случае не отдалялся, не говорил «мне это чуждо», с терпением и добротой откликался на каждый вопрос человеческой души. Что касается церковности, то мы знаем — бывают даже священнослужители не вполне церковные по тем или иным причинам, им интереснее, может быть, какой-то другой аспект служения, а не именно отношение к Церкви как к святыне. А Зосима жил этим внутренним ощущением. Когда он стал ризничим в монастыре, я был экономом. Отец Зосима всегда говорил, что ризничий — это самое лучшее послушание, потому что связано с богослужением, с церковью. Это облачения, иконы, святыни — что может быть лучше! Все так, но на самом деле это очень напряженное послушание, сложное: он постоянно вертелся как белка в колесе. В праздники на Зосиму невозможно было смотреть без слез, он был совершенно запыхавшийся, измотанный. Ведь это Данилов монастырь — здесь всё искрит, все время что-то меняется, особенно, когда приезжают высокие гости. То где-то ковер забыли постелить, то икону не ту положили на аналой, поэтому порой просто голова кругом. А он сохранял любовь именно к этому послушанию. Удивительно было то, что он никогда ни на кого не обижался. Все мы люди со своими слабостями, особенностями характера, у всех есть острые углы. У него же как будто углов не было — «круглый» характер, непамятозлобивый. Кто бы что ни сделал ему, он всегда искренне прощал. Иногда что-то скажешь резкое сгоряча или от усталости, невнимательность проявишь, думаешь, вот человек обидится. А про Зосиму я твердо знал, что он никогда не обидится, оправдает, в сердце своем поймет. Живущие в монастыре понимают, как редко такое бывает. С таким человеком легко. В городском монастыре жизнь инока тяжела, потому что не затворник, не отшельник, живешь в суете, постоянно среди людей, в потоке совсем не монашеских событий, разговоров, забот. А отец Зосима в гуще всего этого оставался монахом. Поэтому его епископство было просто следующим закономерным шагом служения. Хиротонию владыка воспринял как новое трудное послушание. Он говорил, что вся полнота духовного сана сосредоточена в епископе. И без епископа нет Церкви. Поначалу очень его тяготила необходимость командовать. До хиротонии Зосима никогда не начальствовал, всегда был подчиненным. Один немолодой священник, который встречал владыку, когда его назначили в Якутию, рассказал мне, как они в епархии волновались. Даже присылали к нам в Свято-Данилов монастырь «соглядатая», разведать, что за человек Зосима-архимандрит, который будет у них епископом. Когда же владыка прибыл в епархию, все были поражены его простотой и открытостью. Он был смиренный, кроткий. Например, как-то, когда владыка Зосима с духовенством шли по коридору епархиального здания, он бросился открывать дверь священнику. От епископа такого совсем не ожидали. Даже растерялись. Служение было для владыки непростым: управлять священниками, договариваться с властями, быть, что называется, первым лицом — для него эти вещи были новые и достаточно тяжелые. Но владыка отнесся к этому как к делу всей своей жизни. Для него все предыдущие этапы: послушание краснодеревщика, руководителя издательства, командировка в Иерусалим, затем ризничего в Даниловом монастыре — были как бы кирпичики в фундаменте того здания, которое он дальше мог строить уже сам, используя свои знания, свой опыт. Какая у него была сверхзадача? Создать якутское духовенство. Он считал, что значительная часть духовенства епархии должна быть из местных жителей. Он задумал открыть духовное училище — сейчас оно практически построено, должны к сентябрю освящать. Когда у него дело пошло, он вошел во вкус, он там гениально все устроил: православная гимназия, семинария с общежитием и квартирами для преподавателей. Монастырь мужской. Храм отдельный. И все это уже почти построено. Это все для Якутии. Умудриться пробить там такой православный комплекс — это чудо. У владыки было глубокое знание и понимание истории церковного искусства, церковного зодчества, церковной архитектуры, иконописи. Кстати, в Якутии он первым делом пошил для всего духовенства новые облачения, потому что до него они служили чуть ли не в послевоенных. Церковное искусство он знал и любил, и всегда практически беспроигрышно понимал, где что лучше сделать. Теперь это будет служить поколениям и поколениям якутян на сто лет вперед. С другой стороны — нагрузка возросла в разы: очень серьезный проект, в котором все замыкалось на нем. Неудивительно, что последний год он был весь на нервах. Каждый день ездил на эту стройку, сам во все вникал. Это же было его детище. И сердце не выдержало нагрузки. Якутские власти долго присматривались к новому епископу. Он сетовал, что это такая стена, которую пробить тяжеловато. Не всегда и не всем удается с чиновниками подружиться. Но во второй половине его пребывания в Якутии, особенно в последние два года, он наладил контакт с президентом Республики Саха-Якутии В.А. Штыровым и со всем его аппаратом. И вдруг так получилось, что эти люди — не по ту сторону баррикад, а по эту. Священство его любило, миряне... Однако все равно существовала дистанция епископ — подчиненные, которую невозможно перешагнуть. А он очень любил друзей. Дружеское общение, теплота в монастыре особо ценится. В миру естественно, что есть друзья или приятели. А в монастыре каждая дружеская душа — это редкость. Это очень ценно. А в Якутии он остался как бы один, в удалении от друзей. Это его тяготило. И как же он радовался, когда, приезжая сюда, в Данилов, слышал от нас не «владыко, благословите», а — «Зосима, пойдем чайку попьем». Для него это было утешение. Утешением было и для нас. Несмотря на то, что он епископ, а мы монахи, иеродиаконы, он был нашим другом. Другом он и остался. Я, к сожалению, при живом владыке Зосиме в Якутии не побывал, побывал только на погребении. Раньше все было некогда, недосуг, а теперь я понял, что откладывать такие вещи нельзя. Если есть возможность с другом увидеться, надо этим дорожить. Потому что часто такие люди, каким был наш Зосима, не задерживаются на земле.
14 мая 2010 г.
Ключевые слова:
Дальний Восток, духовенство
Также читайте:
HTML-код для сайта или блога:
|
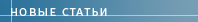
Святитель Феофан Затворник и его богословское наследие В 2010 году Издательским советом Русской Православной Церкви была начата работа по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского, в 40 томах. Этот проект не имел аналогов в церковно-издательской практике. Проделана трудоемкая работа по сбору сведений о жизни и деятельности святителя Феофана, которая нашла отражение в подготовке и издании «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского», дополняющей собрание сочинений. В этом году исполняется 130 лет со дня преставления ко Господу святителя Феофана Затворника (в миру Георгия Васильевича Говорова; 1815–1894). О первом опыте издания полного собрания творений русского святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. PDF-версия.
15 апреля 2024 г. 17:00
Протодиакон Владимир Ганаба 24.07.1934–26.11.2023 26 ноября 2023 года на 90-м году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого кафедрального собора города Подольска протодиакон Владимир Ганаба.
11 апреля 2024 г. 16:10
Схиархимандрит Варсонофий (Радута) 01.09.1938 – 08.01.2024 8 января 2024 года на 86-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (Радута).
11 апреля 2024 г. 16:00
|













