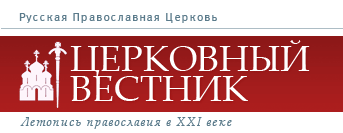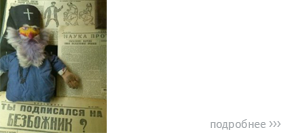По материалам российских духовных академий 1860–1910-х годов
История Церкви как научная дисциплина тесно связана с богословием. Одновременно она включена и в комплекс исторического знания. Сегодня светские историки все больше обращаются к церковно-историческим исследованиям,а богословы понимают необходимость компетентного применения исторических методов. В этой связи дискуссии о специфике церковной истории, ее преимущественной связи с богословским или историческим контекстом, начавшись еще в XIX столетии, не прекращаются и в наши дни. О методах изучения истории Церкви, ее месте в системе научного знания размышляет доктор церковной истории Н.Ю. Сухова.
Внешняя и внутренняя история Церкви
Наибольший интерес представляет период 1860–1910-х годов, когда церковная история в России развивалась параллельно в высших духовных школах и в университетах, то есть в богословском и историческом контексте, что давало дополнительный импульс методологическим дискуссиям. Однако, чтобы проследить корни проблемы, нужно сказать несколько слов и о предшествующем периоде.
В начале XIX века, в процессе духовно-учебной реформы (1808–1814), при систематизации «универсума духовной учености» на историю было обращено особое внимание: как высшим, так и средним духовным школам вменялось в обязанность «познание древней Истории и особливо Священной и Церковной»1.
Но традиция «неотделенности» профанной истории от церковной была еще сильна. Поэтому при составлении проекта реформы в 1808 году история библейская и церковная с древностями (и библейская география) в семинариях, «история церковная, особливо греческая и российская» и «греческие и российские, наипаче церковные древности» в академиях были отнесены к классу исторических наук, а не богословских2. Однако при практической проверке проекта нового Устава в первой преобразованной Санкт-Петербургской академии (СПбДА) для церковной истории был выделен особый преподаватель, и очень важно, что им оказался иеродиакон Филарет (Дроздов) — ученик митрополита Платона. И в 1810 году, когда потребовалось разделить изучаемые в академии дисциплины на богословские (обязательные) и небогословские (вспомогательные), церковная история с древностями были отнесены к богословию3.
Учебная программа, составленная будущим святителем Филаретом, определила направление в преподавании церковной истории в высшей духовной школе на ближайшие десятилетия. В историю Церкви включались периоды ветхозаветный и новозаветный; выделялись внешняя история Церкви «как общества верующих», «ее благосостояния и бедствий, защитников и врагов, распространения и уменьшения», и внутренняя история «веры одушевляющей и отличающей сие общество», церковного учения, богослужения, мужей, «делом, словом и писанием способствовавших к успехам истинного благочестия»4. То есть во внутренней стороне было указание на перспективу истории догматического учения, историческую литургику и патрологию. Когда при более жесткой структуризации духовно-академического учебного плана было выделено шесть классов наук, среди которых были богословский и исторический, церковная история была отнесена к первому, но довольно быстро оформилась в самостоятельный класс и, соответственно, должна была вырабатывать свою методологию с учетом специфики и задач.
Обострение методологической проблемы
Вторым важным для нашей темы моментом стал рубеж 1830–1840-х годов, когда общий «исторический подъем» в России захватил и духовную школу. Повысился интерес к преданию Церкви и понимание его важности. В самостоятельную дисциплину оформилась патристика (1841), причем при составлении учебных программ выделилось два оппонирующих друг другу подхода: богословский и исторический.
Возрос в эти годы и интерес к родной истории, месту и значению России в истории и метаистории: в академиях усилилось церковно-историческое направление, в Киевской духовной академии (КДА) русская гражданская и церковная история были выделены в самостоятельный предмет (1841), преподавание которого было поручено иеромонаху Макарию (Булгакову), за КДА последовали и другие академии. Но это, казалось бы, возвышение отечественной исторической проблематики, соединяя церковную историю с гражданской, противоречило традиции, заложенной в первые десятилетия XIX века: относить церковную историю не к исторической, а к богословской области. Таким образом, методологическая проблема обострилась, а разные варианты ее решения подразумевали дальнейшее дискуссионное обсуждение.
Заметим, что этот «исторический подъем» совпал — разумеется, не случайно — с осмыслением русскими богословами понятия «исследование». Специальное исследование в конкретной области богословия, проведенное с использованием исторических методов — историко-генетического и историко-сравнительного — стало противопоставляться статичной «духовной учености» с ее «богословским энциклопедизмом» и «рассуждениями». И когда на рубеже 1850–1860-х годов началась подготовка новой духовно-академической реформы, стало ясно, что концепцию высшей духовной школы должны были определить главные понятия — «специализация» и «научно-критическое исследование», причем оба они связывались с историческим подходом к богословским проблемам.
Богословскую ревность к церковной истории усилило и то, что новый Устав российских университетов, утвержденный в 1863 году, вводил особую кафедру церковной истории на историко-филологических факультетах. Синод настоял — по крайней мере при самом учреждении этих кафедр, — чтобы они замещались исключительно выпускниками духовных академий, имевшими богословские ученые степени, что подчеркивало богословский статус церковной истории. Это побуждало академии обратить особое внимание на церковно-историческое направление как в смысле его усиления, так и в смысле методологического осмысления. Так, вскоре после введения университетского Устава профессор КДА И.И. Малышевский, занимавший кафедру церковной и гражданской отечественной истории, настоял на их разделении: с одной стороны, для расширения исторического направления — наиболее важного для формирования исследовательских умений студентов, их умения работать с источниками, с другой — для методологической рефлексии церковной истории5.
Вполне объяснимым при этом было и обращение к опыту западной богословской науки. В этой связи нельзя не вспомнить две статьи, опубликованные в журнале столичной духовной академии накануне реформы, когда проект нового академического Устава уже находился в стадии доработки. В 1868 году выпускник СПбДА священник Иоанн Флеров на основе статьи швейцарского протестантского богослова Фредерика Годэ попытался предложить новую структуру богословского знания6. И протестантский автор, и его православный переводчик разделяли богословие умозрительное (включавшее экзегетическое, систематическое и историческое) и практическое. Главный пафос статьи состоял в заостренности всего богословия именно на его практическом применении. Несколько показательных замечаний было сделано и относительно исторического богословия. Предлагалась структурировать его следующим образом: «история Теократии с ее дополнением — богословием библейским»; «история Церкви с ее дополнением — историей догматов»; «статистика» — как современное состояние истории — с «символикой»7. Сама по себе эта структура к середине XIX века была уже достаточно привычна для западной науки, по крайней мере протестантской, но для нас важно ее появление в поле зрения русских богословов. Переводчик от своего имени писал не только о сложности исторического богословия как такового («нет ничего более затруднительного, как анализ, которым должна заниматься эта наука»8), но и о его опасности: «различие непрерывных фаз и разнообразных образов» Божественного Откровения и его понимания может увлечь «усилением различий, открытием контрастов, изменением оттенков на противоположные цвета, а разнообразия — на противоположности»9. Поэтому вопреки протестантским исследователям отец Иоанн Флеров настаивал на том, что «нельзя отваживаться пускаться в это море без руководства систематического богословия, составленного на основе Свящ. Писания и Свящ. Предания»10.
Вторая из упомянутых статей была также связана с протестантским богословским образованием: выпускник той же академии протоиерей Тарасий Серединский, служивший при посольской церкви в Берлине, комментируя привычную для немецких университетов четырехчастную структуру богословия — экзегетическое, историческое, систематическое и практическое, — обращал внимание на внутренний состав исторического направления. Он относил к нему, кроме указанных в статье священника И.Флерова дисциплин, патристику, церковную археологию и церковную мистику11.
Казус П.В. Знаменского
Итоговый вариант нового Устава духовных академий, утвержденный в 1869 году, ввел в российских академиях жесткую — почти факультетскую — специализацию по трем отделениям: богословскому, церковно-историческому и церковно-практическому. В новом Уставе была характерная черта «историзма»: догматическое богословие предполагалось читать «с историческим изложением догматов», но при этом было принципиальное отличие от немецкого варианта: если в последнем библейское богословие и история догматов были отнесены к историческому направлению, то в российском — к богословскому. Таким образом, в церковно-историческом отделении Устава 1869 года была ослаблена богословская составляющая, а в богословском нарушена идея «систематичности»; кроме того, была потеряна связь библейской истории с библейским богословием, церковной истории — с историей догматов. Вопрос вызывало и отнесение патристики не к историческому, а к богословскому отделению: с одной стороны, это могло привести к победе в самой патристике «догматического» подхода над «историческим», с другой — усилить «исторический пафос» самого богословия.
Первые же годы действия Устава 1869 года продемонстрировали плодотворность церковно-исторического направления: соответствующие отделения были самыми многочисленными, представляли максимальное количество диссертаций, причем исследовательское поприще требовало всё большего приложения научных сил. Привлекательность исторического направления можно было объяснить внешними причинами: реформы, проводившиеся в 1860–1870-х годах в церковной жизни, побуждали обратиться к опыту прошлого, найти в нем те или иные ответы и ориентиры; к этому же обращали начавшиеся в эти годы межконфессиональные диалоги и апелляция разных конфессий к опыту «единой древней Церкви»12. Но в устремленности к истории была и методологическая причина: написание исторической диссертации было понятнее, нежели чисто богословской.
Однако «историзм» выявил множество вопросов, и полем дискуссий прежде всего оказалась история Церкви. Одним из первых и наиболее ярких примеров стала история с докторской диссертацией уже упомянутого профессора П.В. Знаменского, посвященной приходскому духовенству в России13. Диссертация была подана в 1872 году на соискание степени доктора богословия — других степеней академии в те годы не присуждали — и удостоена похвальных отзывов рецензентов и совета КазДА, причем в качестве главного достоинства отмечалось «редкое беспристрастие» автора: не задаваясь «заранее какой-либо идеей», он «исторически (курсив здесь и далее мой. — Н. C.) следит за явлениями, относящимися к его теме, и говорит более действительными фактами, чем собственными выводами»14. Однако архиепископ Казанский Антоний (Амфитеатров), вопреки мнению совета, настаивал на несоответствии сочинения искомой богословской степени: автор обращал внимание более на «случайности», временные черты служения приходских пастырей — чаще всего, разумеется, проблемные — и не видел «собственно богословской стороны», проявления «высшего промысла Главы Церкви», «перста, при всей путанице внешних условий, ведущего, однако же, Церковь более или менее успешно к цели»15. История Церкви, как ее понимал архиепископ Антоний, должна была определяться сотериологической направленностью, путем спасения. Если Сам Христос говорил, что Он есть путь и истина и живот (Ин. 14, 6), то история Церкви как раз и должна изучать путь, указуемый Христом и проходимый Его Церковью. Таким образом, коллизия выявила оппозицию понимания Церкви как Тела Христова и «корабля спасения», с одной стороны, исторического «общества верующих», со своими случайностями, земными и временными проблемами и слабостями — с другой. Разумеется, изучение последнего не означало отрицания первого, но имело ли подобное изучение смысл для богословия?
Завершение истории с диссертацией П.В. Знаменского было вполне благополучным для исследователя, но небезынтересным с методологической точки зрения. Святейший Синод утвердил профессора П.В. Знаменского в степени доктора богословия, ответив преосвященному Антонию: «исследование церковной иерархии в тот или иной период нельзя не признать одним из главных и существенных элементов, составляющих содержание церковно-исторической науки», а, значит, принадлежащих к области богословия16. Таким образом, проблема решена не была, ибо Синод считал определяющим фактором принадлежности к богословию предмет исследования, а преосвященный Антоний — метод: не всякое исследование церковной жизни является богословским.
Есть ли настоящая история
Вопросы, встававшие в 1872 году при обсуждении диссертации П.В. Знаменского, отчасти повторились в декабре 1880 года при обсуждении 1-й части 1-го тома «Истории Русской Церкви» профессора МДА Е.Е. Голубинского, также представленной в качестве докторской диссертации. Но теперь основная дискуссия велась по поводу «излишнего критицизма» в церковно-исторических исследованиях. Оппоненты, по достоинству оценивая титаническую работу Е.Е. Голубинского по внешней и внутренней критике источников, замечали, что он представил не курс церковной истории, а мастерскую историка: разбив существующую доселе историю Русской Церкви — пусть и не совершенную, но целостную — на фрагменты, разложив на элементарные составляющие, он не предложил нового варианта. Но Е.Е. Голубинский был убежден, что «настоящей истории нет» и не может быть на данном этапе, возможна только добросовестная критическая работа на перспективу, для будущих историков. Спустя почти четверть века преемник Е.Е. Голубинского по кафедре С.И. Смирнов, оценивая вклад своего предшественника в историю Русской Церкви и ее методологию, отмечал: «вооруженный молотом критики», Е.Е. Голубинский «пересмотрел и перетрогал всё здание своей науки и немало камней, даже лежащих в ее фундаменте, разбил своим беспощадным молотом... Критицизм ученого переходит в скептицизм, когда он касается оценки источников своей науки»17. Вместе с тем, «критическая обработка источников и сама по себе содействует выяснению исторической истины... получается возможность твердых научных построений по истории Русской Церкви18.
Однако петербургский церковный историк В.В. Болотов, который был согласен с тем, что «произвести критику источников — это самое важное для историка», всё же отстаивал «презумпцию невиновности» источника, считая, что «все исторические документы с точки зрения консервативной науки (а история, по мнению В.В. Болотова, является именно таковой) должны пользоваться полными правами. Мы должны предполагать, что автор знал и хотел рассказать истину, а не ставить скептически с первого же слова вопрос о возможности и желании автора сообщить истину. Этот вопрос уместен в том случае, когда в самом документе есть для него основание»19.
Мешает ли конфессиональность объективности
Дискуссии о соотнесении богословского и исторического методов в церковной истории возникали в духовно-академической науке очень часто, при этом выявлялись диаметрально противоположные мнения. Одним попытки каких-то богословских рассуждений в историческом изучении той или иной стороны церковной жизни казались просто неуместными. Так, еще в 1881 году в отзыве на докторскую диссертацию профессора КазДА Ф.А. Курганова, посвященную церковно-государственным отношениям в Византии в IV–VI веках, его коллега по академии С.А. Терновский, привычно воспевая панегирик историко-генетическому методу, сетовал на наличие «теоретических воззрений», которые «только стесняют свободу исторического исследования»20. Эти «теоретические воззрения» представляли попытку Ф.А. Курганова выделить основные богословские проблемы своего исследования, прежде всего свободу Церкви. Других, напротив, смущало отсутствие «богословской составляющей» в церковно-исторических исследованиях: так, представленная в 1884 году в совет СПбДА диссертация Н.А. Скабалановича, посвященная Византийской Церкви XI века, подверглась серьезной критике из-за чисто исторического подхода, не учитывающего богословскую специфику изучаемой проблематики и уделяющего преимущественное внимание внешним вопросам, причем «под углом политической тенденции»21.
Довольно жестко была поставлена в церковно-исторических исследованиях проблема конфессиональности. Так, еще при защите докторской диссертации Е.Е. Голубинского автором было сформулировано исследовательское кредо: «История не должна быть панегириком, иначе она потеряет смысл: историк должен изображать всё, что было и хорошее и дурное»22. Это заявление, как и «способы и приемы критики», не вызвали тогда возражений ни у оппонентов, ни у кого-либо из участвовавших в диспуте, но в Синоде критический пересмотр устоявшихся концепций ранней церковной истории вызвал некоторую настороженность.
В 1887–1888 годах при обсуждении диссертации профессора КазДА Е.А. Будрина, посвященной изучению антитринитариев XVI века23, вопрос встал более жестко. Святейший Синод критически оценил слова автора, заметившего, что «в историческом исследовании всего менее уместно преследование практических целей и личных интересов» (имелись в виду цели и интересы конфессионально-апологетические). В отзыве Синода указывалось не только самому автору, но и совету академии, что «в богословских исследованиях не только уместно, но и обязательно «преследование практических целей и интересов собственной Православной Церкви». Более того, исследователь должен быть обеспокоен тем, чтобы «не соблазнить горячих сердцем и ревнивых православных холодным беспристрастием к чуждым учениям и неправославным взглядам и индифферентизмом к воззрениям строго православным»24. Однако это замечание контрастировало с убеждением В.В. Болотова, который был убежден, что нельзя требовать от истории «определенного христианского вероисповедания», потому что «история в таком виде сделалась бы полным отрицанием идеи исторического знания», а историк погрешил бы в «фальшивом конфессионализме». Разумеется, Болотов не отказывался от конфессиональной позиции самого историка, от его преданности Православной Церкви, но считал, что «исторический объективный материал должен господствовать и над православным историком». Конфессионально-церковная позиция историка лишь побуждает его освещать свои выводы с православной точки зрения и указывать «именно на те стороны фактов, которые имеют значение для православных»25.
Такую же позицию заявил несколько позже профессор КДА М.Е. Поснов, прямо требующий от церковного историка «объективности и аконфессионализма»26. Таким образом, в духовно-академические дискуссии был включен еще один тезис, связанный со спецификой церковной истории как науки: если богословие ввиду своей неизбежной конфессиональности должно исходить из интересов своей Церкви, то церковная история требует от исследователя бескомпромиссного изучения исторической реальности, отказа от преднамеренного проведения определенной тенденции.
Вопрос о богословском статусе церковной истории вставал и вне собственно духовно-академического поприща. Примером явилась коллизия, связанная с монографией профессора Новороссийского университета Ф.И. Успенского «Очерки по истории византийской образованности»27: в критических отзывах на нее как уже упомянутые А.П. Лебедев и И.Е. Троицкий, так и другие представители духовно-академической церковной истории ставили вопрос о допустимости для историка, не имевшего богословского образования, заниматься церковно-историческими, то есть богословскими, исследованиями. Их ответ на этот вопрос был отрицательным: работа Успенского иллюстрирует различие в методологии гражданской истории и истории церковной, то есть богословия. При этом интересно, что А.П. Лебедев винил в богословской некомпетентности традиционное отсутствие в российских университетах богословских факультетов, ибо в германских университетах, имеющих в своем составе богословские факультеты в университетах, даже историки — «не-богословы», «посвящающие свою ученую деятельность разработке вопросов, соприкасающихся богословию, пишут безукоризненно с точки зрения богословской»28.
Заметим, что через год после этой коллизии тот же А.П. Лебедев, попав после многолетнего преподавания церковной истории в МДА на соответствующую кафедру в Московский университет, с разочарованием писал своему бывшему ученику Н.Н. Глубоковскому о том, что церковная история вне богословской среды истощается и теряет смысл. Поэтому он счел необходимым в качестве первой части церковно-исторического курса читать краткую историю библейских книг, знакомя и с их содержанием. В этой попытке А.П. Лебедева в той или иной степени вновь ожил так и не осуществленный проект Устава российских университетов 1804 года: связать в единую кафедру Священное Писание и историю Церкви как замысел истории спасения и его реализацию.
* * *
Таким образом, бурный «исторический прорыв» русского богословия и переживание его достижений и поражений в значительной степени определили развитие богословской науки в последние предреволюционные десятилетия.
Этот прорыв имел неоднозначные результаты, а в понимании «историчности» и связанных с ней методов не было единства: одни богословы-исследователи понимали их лишь как уточнение тех или иных исторических деталей, другие — как отказ от «априорной конфессиональности», разумеется, без отказа от конфессиональной позиции самого историка как члена Церкви, третьи — как возможность выявить генезис и развитие тех или иных элементов церковной жизни и богословия для более точного их понимания.
Применение историко-критических методов привело к необходимости пересмотреть традиционные мнения, причем некоторые радикальные выводы вызывали обвинения в посягательстве на церковное предание, а самих исследователей ставили перед необходимостью более трезво относиться и к самому историко-критическому методу, и к выстраиваемым с его помощью «реконструкциям» и выводам.
«Историческая объективность», казалось, входила в конфликт с конфессиональной православной позицией исследователя, но «конфликтные» результаты заставляли более четко и ответственно осмыслить место и значение в проводимых исследованиях посылки и интерпретации. Церковная история стала «зоной риска», в которой особое значение приобретала личность самого исследователя, обладающего церковным и аскетическим опытом, способного сохранять правильную иерархию критериев, безусловность авторитета Божественного Откровения, понимать ограниченность критических методов и определять область их применения.
Церковно-исторические исследования нередко сводились лишь к изучению исторической канвы или контекста того или иного предмета, уходя от богословия как такового, поскольку обусловленность конкретными историческими событиями заслоняла главное — сотериологическую задачу Церкви, Божественный Промысл, действующий в мире. «Молоток» историко-критического анализа разбивал изучаемое на отдельные факты и частные мнения, «простукивая» каждое из них на предмет достоверности и истинности. При этом разнообразие далеко не всегда обретало единство, конкретные факты и их причинно-следственные связи не позволяли провести богословский синтез, и исследователь становился «жертвой» своего исследования и, оставаясь в исторической «мастерской», не получал богословского результата. Доведя критический метод и сформулированный ими «исторический принцип» до предела, некоторые церковные историки уже не видели перспектив богословского синтеза.
Однако большая часть церковно-исторических исследований, проведенных на должном уровне, выверяя факты, выявляя истинные причины тех или иных событий в жизни Церкви, «расчищала» почву и подготавливала надежное основание для богословского синтеза.
Церковная история, выделив из себя в качестве самостоятельных областей богословия патрологию, церковную археологию, историческую литургику, с одной стороны, «подарила» исторический аспект «чисто-богословским» наукам, с другой — включила последние в общую историю Церкви с ее событиями, проблемами, тенденциями. В этой взаимосвязи проявилась полнота церковной жизни. Лучшие из церковно-исторических исследований через конкретику открывали сотериологическую перспективу, позволяли почувствовать подлинное измерение Церкви и истинную церковно-историческую реальность.
Примечания:
1 РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. Журналы Комитета о усовершении духовных училищ с 3 декабря 1807 года по 4 июля 1808 года. Л. 54 об.
2 Именной, данный Синоду указ от 26 июня 1808 г. «Об усовершении духовных училищ; о начертании правил для образования сих училищ и составлении капитала на содержание духовенства // ПСЗ I. Т. XXX. СПб., 1830. № 23 122. § 50, 83. С. 386, 389.
3 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 265. Об изменении порядка учения в Санкт-Петербургской духовной академии. Л. 59 об.
4 Конспект истории и древностей церковных 1810 г. // Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: В 5 т. СПб., 1885–1888. Т. I. С. 26–27.
5 ЦГИАУК. Ф. 711 (Киевская духовная академия). Оп. 1. Д. 4863. Записка профессора академии И. Малышевского об отделении преподавания русской гражданской истории от церковной и об определении на первую бакалавра Терновского. 1863 г. Л. 1–1 об., 3.
6 Флеров И., свящ. Об организации или системе богословских наук // ХЧ. 1868. № 5. С. 673–701. Оригинал статьи: Godet F. L`Organisme de la Science Théologique // Bulletin Théologique: Recueil Trimestriel. Vol. 3. 1863. P. 1–16.
7 Там же. С. 691–693; ср.: Godet F. L`Organisme de la Science Théologique. P. 9–10.
8 Флеров И., свящ. Об организации или системе богословских наук. С. 692–693.
9 Там же. С. 693.
10 Там же. С. 692–693.
11 С [ерединский] Т. [Ф., прот.] Богословский факультет королевского Берлинского университета // ХЧ. 1869. № 8. С. 342–354.
12 См., например: Янышев И.Л., прот. Боннская конференция // ХЧ. 1874. № 10. С. 150–184.
13 См.: Знаменский П.В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Казань, 1872.
14 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6566. О возведении в степень доктора богословия ординарных профессоров КазДА М. Я. Красина, П. В. Знаменского и И. Я. Порфирьева. Л. 19 об.
15 Там же. Л. 37–38 об., 43–44 об.
16 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6566. Л. 33–34 об., 45–46.
17 Смирнов С. И. Голубинский Евгений Евсигнеевич // Богословская энциклопедия. Т. IV. СПб., 1903. С. 505.
18 Там же. С. 506.
19 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви / Посмертное изд. под ред. А.И. Бриллиантова: В 4 т. СПб., 1907. Т. I. I: Предварительные понятия.
20 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 7480. О соискании степени доктора богословия доцентом Ф. Кургановым и экстраординарным профессором И. Бердниковым. Л. 2–2 об.
21 См.: Особое мнение экстраординарного профессора Т. В. Барсова о сочинении доцента Н.А. Скабалановича // Журналы заседаний Совета СПбДА за 1883 / 84 уч. г. СПб., 1884. С. 217–220; Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI в. от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексия I Комнина. СПб., 1884.
22 Докторский диспут Е.Е. Голубинского… С. 151–154.
23 См.: Будрин Е.А. Антитринитарии XVI века: В 2 вып. Вып. I: Михаил Сервет и его время; Вып. II: Фауст Социн. Казань, 1878; 1886.
24 Там же.
25 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. I. С. 30–32.
26 Поснов М.Е. История Христианской Церкви.
27 Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891.
28 Лебедев А.П. Русский византинист на служении церковно-исторической науке // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1894. № 1 (31). С. 111.